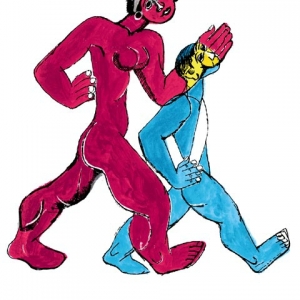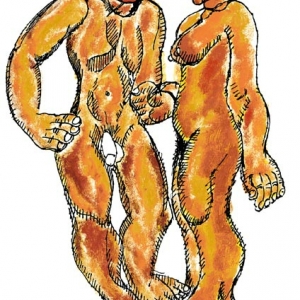ГРАФИКА
Рисунок, быть может, самое органичное, самое естественное проявление натуры художника. Рисовать для него – то же, что жить. Он рисует всегда и везде – в пути, на заседаниях, во время разговора с самыми разными людьми: без церемоний, не спрашивая разрешения набрасывает фломастером в альбом черты собеседника, запечатлевая свое непосредственное, сиюминутное впечатление от заинтересовавшего его человека. И уходит от действительности, «раздваивает» свое сознание, совмещая деловые интересы, проблемы, трудности, которые ему непрерывно приходится разрешать с воспоминаниями, интимными переживаниями, настроениями, которые никогда не умирают в душе, не тускнеют в глазах художника.
Люди его любимой Грузии, встреченные на горных тропах во время этнографических экспедиций, которыми так увлекался Церетели в молодые годы, увиденные на базарах и улочках старого Тбилиси – те же, что и в живописных работах горшечники, торговцы, дворники, уличные музыканты – характерные грубоватые корявые фигуры, явно утрированные, но всегда на редкость живые, с тяжелыми кистями натруженных рук, предстают в рисунках индивидуально, укрупненно, занимая собой все пространство белого листа бумаги. Церетели извлекает их из небытия, из глубин своей зрительной памяти, выводит на первый план, представляет во всей их монументальной значительности. На какой то миг эта грузная старуха, продавщица глиняных кувшинов; этот ненадолго присевший отдохнуть скрипач с могучими плечами и руками крестьянина и тонким одухотворенным лицом артиста; этот босоногий, самозабвенно отдающийся музыке игрок на свирели; эти две женщины в покрывалах, не то играющие в какую-то игру пальцами рук, не то сложившие ладони в безмолвной молитве занимают все внимание художника, а вместе с ним и зрителя, оказываются в «центре мироздания» – и отходят, уступают место другим, все новым и новым людям, сливаются с ними в пеструю многоликую толпу.
Сделанные мелким штрихом, «мохнатые» черные линии рисунка тушью быстро и точно обегают контур фигуры, сразу же, одним уверенным движением руки очерчивают ее силуэт, оставляя нетронутым пространство белой бумаги и в то же время передавая объем человеческого тела, его весомость, его живую, полнокровную плоть. Иногда, как в фигуре сидящей женщины с букетом цветов, линии утончаются, сводятся буквально к считанным скупым штрихам; белый фон и растворяет в себе фигуру, и выявляет, «подает» ее особенно весомо – так работали в графике Матисс, Пикассо, столь почитаемые и любимые Церетели.
Рисунок остается основой и его акварелей – всегда очень ярких, насыщенных звонкими открытыми цветами, резкими сочетаниями желтого, красного, синего, зеленого с белым – оставленной нетронутой бумагой и черным – тушью. Те же, что и в рисунках, воскресшие и преломившиеся в памяти, художественно обостренные типы – дворники, торговцы, нищие, просто мужчины и женщины – в цветных композициях обретают большее обобщение и отстранение. Они как бы уводятся в некий особый фантастический, звенящий цветом сказочный мир, возносятся над землей, над скопищем мелких домишек, уходят из реального времени в иное вневременное пространство.
Опаленные огненной красной охрой фигуры обнаженных женщин, влюбленных пар легко могут ассоциироваться с Адамом и Евой, с первозданным человеком, вылепленным из той же красной глины, что и деревенские кувшины, из той же земли, которая стала краской для художника.
Иногда, как в фигуре старого грузина в белом фартуке, в дворнике с метлой возле мусорной корзины – акварель остается жидкой и прозрачной, скорее подцветкой, чем цветом. Краски звучат локально, открытыми желтыми, синими, кирпично-красными оттенками. Иногда – как в рисунке тореро на взметнувшемся задними ногами разъяренном быке, краска обретает максимум плотности, доступной акварели, сливается в на редкость красивый гармоничный цветовой аккорд.
Графика Зураба Церетели, как, впрочем, и его масляная живопись – делается им без всякого предназначения. Без расчета на тиражирование, на воспроизведение в книге в качестве иллюстраций, на продажу, даже просто на экспонирование. Не носит она и характера подготовительных работ, накопления художественного багажа, который потом как-то реализуется в монументальных заказных работах. Нельзя даже сказать, что она делается «для себя», ради каких-то собственных творческих целей, в качестве эксперимента, пробы и т.п.
В натуре Зураба Церетели нет такого противопоставления: для себя – и для зрителя (потребителя, покупателя, критика и пр.). Все, что он делает, он каким-то образом делает «для себя» – вкладывает в них ту же неудержимую фантазию, ту же нерастраченную энергию, ту же радостную детскую потребность творить, лепить, раскрашивать, что и в каждый альбомный набросок, сделанный на заседании президиума Академии художеств, между разговорами о проблемах художников – и так далее, и так далее, без конца.
М.А.Чегодаева